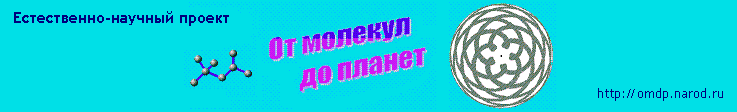
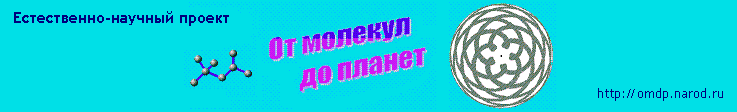
|
|
Образно выражаясь, из работ опаринской школы выросла химия происхождения жизни, из работ Вернадского – экология этого процесса, а теперь, с привлечением понятия сродства, намечается общебиологическое понимание проблемы... |
Где начало того конца?Ю. В. Чайковский"Где начало того конца, которым оканчивается начало?" – спрашивал бессмертный Козьма Прутков, и мы сейчас видим, насколько он был прав в своем недоумении. Действительно, если говорить о самом главном – о жизни, то начало – это ее происхождение, причем достаточно хорошо известно начало начала – накопление органических молекул в первичной атмосфере и водах, а конец начала мы уверенно представляем себе как появление самых простых бактерий. Что же касается начала того конца, которым оканчивалось это начало, – превращения органики в первую бактерию, – то на эту тему много написано, но мнения ученых противоречат друг другу буквально по всем вопросам, а достоверного ничего нет. Впрочем, в последнее время вновь стало высказываться одно соображение, против законности которого трудно что-нибудь возразить: что бактерий появилось сразу много и они были разными (по словам П. Тейяр де Шардена, "жизнь, едва возникнув, уже кишит"). Аргументы в пользу этого соображения мы уже приводили*, а сейчас посмотрим, как в его свете выглядит сама проблема происхождения жизни. __________________ * См. "Знание – сила", 1979 год, № 6, статью Ю. Чайковского "Как клетки научились делиться". Те, кто не задумывается об этой проблеме специально, чаще всего считают, что она сводится прежде всего к проблеме возникновения аппарата наследственности (пресловутый вопрос: что было раньше – курица или яйцо?). Стоит, однако, всерьез задуматься над происхождением жизни, и встает другой вопрос: что было раньше – организм или условия для его существования? (курица или зерно?) Оба эти аспекта проблемы происхождения жизни – генетический и экологический – чем-то подозрительно сходны: в обоих случаях идет речь о том, что не удается говорить о происхождении элемента сложной системы отдельно от происхождения всей системы как таковой. Для обсуждения подобных вопросов наука еще только начинает вырабатывать язык. 1. О происхождении жизни ученые думали всегда, и к началу XX века бытовало мнение, что зарождение живого было похоже на появление кристалла в пересыщенном растворе соли. Считалось также, что внешне похожие на амеб комочки белковых коллоидов, которые наблюдались в химических экспериментах, в самом деле близки к амебам и что проблема абиогенеза (происхождения жизни) будет решена именно на этом пути. Однако вскоре успехи биохимии убедительно показали всю наивность такой аналогии: для живой клетки существенна не какая-то определенная внешняя форма, а способность к активному использованию внешних потоков вещества и энергии с целью сохранения собственной индивидуальности и изготовления себе подобных. Ученые стали склоняться к той точке зрения, что проблема абиогенеза вообще не может считаться естественно-научной н что ею должны заниматься только философы и поэты. В этой обстановке в 1924 году появилась книжка А. И. Опарина "Происхождение жизни", в которой всей проблеме был придан новый вид: с этих пор начинаются работы по экспериментальному воссозданию тех условий, в которых возникала жизнь. На этом пути исследователей ждали большие успехи: было показано, что в условиях бескислородной атмосферы могло идти накопление всех мелких органических молекул (аминокислот, сахаров, нуклеотидов н т. п.), которые, как предполагается, были нужны для образования первых организмов, а также небольших цепочек из таких молекул. Редко кому из ученых удается при жизни увидеть реализацию своих замыслов в таком полном виде, как это посчастливилось Опарину, однако очевидно, что главные трудности еще впереди, так как здесь ставилась только проблема "начала начала". Что касается проблемы "конца начала", то ее решение стало просматриваться только в последние годы, по мере выяснения механизмов клеточного деления и удвоения генетического материала*. Тем самым становится понемногу ясным, пусть и в самых грубых чертах, последний процесс из числа приведших к жизни – образование делящейся клетки. __________________ * См. "Знание – сила", 1979 год, № 6, уже упомянутую статью Ю. Чайковского "Как клетки научились делиться". Итак, с одной стороны, мы умеем экспериментально получать "кирпичики" для построения живого (некоторые оптимисты видят у них даже слабое подобие ферментативной активности), а с другой стороны – можем представить себе то "здание", которое было построено из этих "кирпичиков", зато ничего не знаем ни об "архитекторе", ни о "строителях", ни о тех "инструментах", которыми они могли бы пользоваться. Естественно, не могла не родиться гипотеза, согласно которой "кирпичики" сложились в разумно построенное "здание" попросту случайно, а уже потом, в силу законов биологической эволюции, "здания" получали все большее совершенство. К сожалению, эта гипотеза опровергается простыми расчетами, согласно которым во всем Мировом океане за миллиард лет предбиологнческой эволюции могла бы сама собой собраться всего лишь одна цепочка аминокислот или нуклеотидов заданной последовательности, причем длина ее не превышала бы нескольких десятков звеньев. Некоторые еще пытались отделаться от этой трудности, заявляя, что для происхождения жизни, возможно, совсем не обязательны какие бы то ни было цепи уникального состава, или что можно допустить синтез и более длинных цепей (например, на катализаторах из глины), или что первая же реакция синтеза таких цепей, обладавшая способностью ускорять саму себя (то есть автокаталитическая), получила огромное преимущество в конкуренции с другими. Однако все эти ухищрения оказались излишними, поскольку не в них суть дела. Даже если мы поместим в сосуд все макромолекулы, образующие клетку, это не даст нам клетки; а если мы поместим в океан даже целую клетку, но только одну, это еще не даст океану жизни: если клетка и будет делиться, то только пока будут в достатке подходящие молекулы, а потом погибнет (о чем тоже подробно сказано в цитированной выше статье). 2. Мы знаем жизнь только в одной форме – ту, которая окружает нас на Земле. Эта жизнь" умеет существовать только целиком, и мы не в силах всерьез представить себе, как мог бы существовать один-единственный вид, а не то что единственная особь. Экологи справедливо считают, что устойчиво может существовать только экосистема, в которой более двадцати видов. В наш век экологического кризиса сказанное воспринимается само собой, так что даже трудно представить, что в течение всей своей истории человечество в целом находилось крайне далеко от понимания элементарных экологических истин. Трудно поверить, но еще лет двадцать назад крупный генетик А. Мюнтцинг писал в своих "Генетических исследованиях", что "вся Земля была бы, вероятно, населена одним-единственным видом, если бы условия существования на ней были всюду одинаковыми. Интересно, как он представлял себе этот организм – растением, животным или гнилостной бактерией? Где он слышал (хотя бы в сказке) о таком виде организмов, который питается только самим собой, пусть и с помощью солнечных лучей? Разумеется, Мюнтцинг – не эволюционист, но и профессионалы-эволюционисты до недавнего времени нередко рассуждали в рамках понятий, абсурдных для эколога. В частности, не экологична и классическая концепция происхождения жизни в некоем "первичном бульоне", который содержит все, что требуется, и в котором (что не менее таинственно) безболезненно исчезает все, что не требуется. Таким "бульоном" для каждого организма служит окружающая его природа, но это потому, что она сама состоит из организмов, умеющих делать то, чего не умеет данный. Тот факт, что происхождение жизни – экологическая проблема, было впервые четко указано В. И. Вернадским приблизительно в те же годы, когда зарождалось опаринское направление исследований происхождения жизни. Однако идею Вернадского постигла та же участь, которая постигла работы более ранних ученых, пытавшихся придать биологии экологическое направление, – их почтительно выслушали, но не услышали. Еще Антуан Лавуазье незадолго до казни (1794 год) писал в одной из рукописей: "растения черпают материалы, необходимые для их организации, в воздухе, который их окружает, в воде и вообще в минеральном царстве. Животные питаются или растениями, или другими животными, которые, в свою очередь, питались растениями, так что вещества, из которых они состоят, в конце концов всегда почерпнуты из воздуха или из минерального царства. Наконец, брожение, гниение и горение постоянно возвращают атмосфере и минеральному царству те элементы, которые растения и животные из них заимствовали". И это написано в те годы, когда всерьез обсуждалась идея, согласно которой единственная цель природы – создание человека, в все наблюдаемое ее разнообразие – просто неудачные попытки в этом направлении. (Парадоксально, но и эта абсурдная для нас идея была тогда полезна, как вводившая в науку эволюционное начало.) Кто знает, если бы гильотина пощадила великого Лавуазье, может быть, наука пошла бы по другому пути и идея единого баланса природы восторжествовала бы лет на полтораста ранее? Вряд ли: к тому моменту, когда цитированная рукопись стала достоянием науки (1860 год), высказанные в ней догадки были уже основой агрохимии и проповедовал их наряду с другими учеными такой общепризнанный корифей науки, как Юстус Либих, однако и тогда биология оказалась недостаточно готовой к идее баланса. Даже те биологи, которые видели баланс природы, редко задумывались над тем, как увязать идею баланса с идеей эволюции. Наоборот, самый феномен эволюции представлялся тогда большинству опровержением идеи баланса. Так, Альфред Уоллес, знаменитый сподвижник Чарлза Дарвина, приводил примеры опустошительных нашествий саранчи или уничтожения одним видом другого и восклицал: "Где же баланс?". Сейчас нам легко разрешить его недоумение: баланса действительно здесь нет в том смысле, что численности отдельных видов могут подвергаться огромным колебаниям, но он всегда есть в том смысле, что каждый вид может увеличить свою биомассу ровно настолько, сколько он найдет доступным в окружающей среде, причем сама эта биомасса данного вида неизбежно явится резервуаром для других видов. Так легко рассуждать нам, а современники Либиха и Дарвина еще не подошли к экологическому взгляду на природу и, наблюдая победу одних над другими, рассматривали природу не как уравновешенный механизм, а как арену для эволюции данного (в этот момент привлекшего внимание) вида. В большинстве эволюционисты тех лет были уверены, что совокупность актов борьбы каждого вида с окружающей его природой и есть эволюция самой природы. Вряд ли стоит винить их за этот наивный с нынешней точки зрения взгляд, ведь идеология "борьбы с природой" господствовала всего 20-30 лет назад еще и в наших школах... Однако не следует думать и так, что идеи баланса и эволюции не умел сопрячь в прошлом веке совсем никто, – некоторые сопрягали их вполне успешно, и трех из них цитировал сам Дарвин. Это – английский философ Герберт Спенсер, русский геолог Александр Андреевич Кейзерлинг и ирландский врач Генри Фрик. Спенсер и Фрик не спорили с Дарвином, как и Дарвин – с ними, мы же теперь достаточно ясно видим, что у этих авторов намечался новый, чуждый XIX веку экологический взгляд на эволюцию. Если экологический элемент теории Дарвина в основном состоял в указании на то, что среда не дает данному виду неограниченно размножиться, то у Спенсера все пронизано идеей взаимной зависимости организмов, а Фрик даже предпослал своей книжке схему глобального круговорота веществ. Замечательно здесь то, что взгляд на эволюцию с позиций баланса и круговорота привел этих авторов независимо к одной и той же идее – сродства частей к целому. (Книжка Фрика, вышедшая в Лондоне в 1861 году, так и называлась: "Происхождение видов посредством органического сродства"; о сродстве до него писал и Кейзерлинг.) Термин "сродство" (affinity), заимствованный Фриком из химии, означал то свойство системы (атомов или организмов – безразлично), которое заставляет ее компоненты объединяться друг с другом для совместного существования. Другими словами, сродством была названа способность той или иной системы к самосборке (если элементы таковы, что сами собой собираются в систему, то мы говорим, что между ними имеется сродство). В те времена аналогия химического сродства и сродства организмов в экосистеме казалась поверхностной и случайной (ведь и понятия экосистемы еще не существовало), однако сейчас мы знаем, что феномен сродства буквально пронизывает природу на всех ее уровнях. Элементарные частицы соединяются как в другие элементарные частицы, так и в атомы; атомы – как в кристаллы, так и в молекулы; молекулы – как в кристаллы, так и в более сложные комплексы; молекулярные комплексы образуют клетки, которые могут как образовывать организм, так и сами быть организмами; наконец, организмы соединяются как в семьи, стаи и популяции, так и в экосистемы. При этом на всех уровнях можно наблюдать один и тот же эффект: пара частиц, стремящихся в одной ситуации избавиться друг от друга, в другой ситуации соединяется в рамках устойчивой системы. Так, два протона (равно как и два электрона) в свободном состоянии взаимно отталкиваются, но они же устойчиво сосуществуют в атомном ядре (соответственно – в атомной оболочке). Аналогично два самца, встретившись, могут начать драку, но они же могут входить в устойчивую стаю; наоборот, самец и самка, влекомые друг к другу, словно протон к электрону, нередко не способны жить вместе (зубр, например, может в условиях заповедника забить свою подругу насмерть, если люди не разведут их по разным загонам). Итак, при взаимодействии частей в целом причудливо переплетаются притяжение и отталкивание. В трудах Дарвина тоже есть отдельные примеры сродства – так, он указывал, что многие растения могут противостоять истреблению только в том случае, когда растут достаточно тесными группами; на подобных примерах некоторые биологи пытались даже обосновать такое понимание "борьбы за существование", которое включало в себя и все формы сродства. Однако суть теории определяется не тем, как понимать в ней то или другое слово, а ее логикой (или, если угодно, сродством понятий), логика же дарвинизма в этом пункте проста и достаточно известна: в основе эволюции лежит естественный отбор, который возникает вследствие избыточности размножения и (вытекающего из этого) вытеснения одними особями других. Только вытеснение, то есть взаимное отталкивание, есть предпосылка естественного отбора, тогда как факты сродства, даже если собрать их много, остаются внешними по отношению к этой теории. Для включения этих фактов в теорию отбора был придуман остроумный прием: было сделано допущение, что любые организмы, демонстрирующие сродство друг к другу, когда-то в прошлых поколениях вытеснили своих собратьев, не обладавших сродством (так объясняют появление заботы о потомстве, симбиоз, охоту стаями и т. п.). Словом, дарвинизм толкует сродство как результат прошлого вытеснения. Можно ли с этих позиций понять, как, например, "притерлись" друг к другу белки или нуклеиновые кислоты? Первые не умеют себя копировать, вторые почти инертны в биохимическом отношении – как же одни могли существовать до встречи с другими? (Заметим, что одновременный синтез и того и другого по законам неживой химии просто невероятен.) Подобные вопросы, кажущиеся многим безнадежными, в сущности просто неверно поставлены. Разве мы спрашиваем, что появилось раньше – протоны или электроны, самцы или самки? Нам очевидно, что здесь речь идет о системах, части которых не функционировали по отдельности, и разумно задавать вопросы только о том, как могли выглядеть те системы, которые существовали ранее рассматриваемых нами систем, и как прежние системы могли породить новые. А как могла выглядеть система, породившая организм вообще? 3. Сам Дарвин в "Происхождении видов" не касался вопроса о происхождении жизни, но его задали критики: если теория Дарвина отказывается объяснить происхождение жизни, разве не логично допущение, что первые организмы созданы непосредственно богом, который вложил в них саму способность к той изменчивости, на которой Дарвин строит все свое учение? Дарвин не удостоил этого возражения публичным ответом, но в письме другу заметил: "Это сущая ерунда, думать в настоящее время о происхождении жизни; с тем же успехом можно думать о происхождении материи". Что ж, по тем временам Дарвин, пожалуй, был прав, но в наше время, когда для происхождения обычных форм материи (то есть для эволюции вещества Вселенной) наука располагает убедительными моделями, ситуация складывается другая. Поскольку будущая теория происхождения жизни обязательно должна увязать законы неживой и живой эволюции, то "сущей ерундой" грозят оказаться именно те теории биологической эволюции, которые не могут согласоваться с теорией происхождения жизни. Следовательно, объясняя эволюцию организмов, мы уже не вправе, как это делалось прежде, списывать все непонятное просто на "опыт прежних поколений" – такой подход приводит в тупик при объяснении абиогенеза, когда загадок больше всего, а апелляция к прежним поколениям невозможна, поскольку речь идет о самых первых поколениях жизни. В частности, ни одно из нынешних эволюционных учений не берется описать историю возникновения аппарата наследственности. Трудность здесь прежде всего в том, что до его возникновения речь могла идти только об эволюции по законам химии, которая бесконечно далека от построения модели генетической системы, а сразу по его возникновении мы оказываемся в царстве биологии, где ни одна эволюционная доктрина не обходится без ссылки на "опыт прежних поколений" – ни дарвинизм, ни ламаркизм, ни номогенез (о них мы уже говорили: см. "Знание – сила", 1978, № 6). Дело в том, что имеющиеся эволюционные доктрины различаются друг от друга по способам, которыми объясняют целесообразность живого, но любая вынуждена, чтобы понять эволюцию, признать, что первые организмы уже были целесообразными. При этом, как уже говорилось, не может быть и речи о случайном появлении сразу всех условий, необходимых для устойчивого саморазвития жизни. Как выпутаться из этого клубка неразрешимостей? По-видимому, путь один: не впутываться в него с самого начала. Очевидно, здесь требуется какой-то принцип, который является общим как для неорганической, так и для биологической эволюции и при этом касается сути дела, а не только деталей; таким принципом и является принцип сродства частей к целому. С непривычки это кажется странным – разве мы объяснили процесс тем, что сослались на сродство? Ведь большинство ученых твердо уверено: объяснить работу механизма эволюции – значит описать механику молекулярных превращений от поколения к поколению, а вовсе не ввести какую-то новую аксиому. Заметим, однако, что опыт других наук говорит иное: понять новое как механику превращений уже известных элементов можно только тогда, когда по-настоящему нового не ожидается; наоборот, абсолютно новое познается не иначе, как введением новых аксиом. Механическую картину атома удалось дать только тогда, когда ученые отважились изменить само значение слова "механика" и ввести аксиомы квантовой механики. Весь вопрос в том, явилось ли рождение жизни настолько новым феноменом, что для его описания нужны новые аксиомы. Многие, особенно физики и химики, убеждены, что здесь не нужны новые аксиомы, так как, изучая жизнь, мы не выходим за рамки привычных масштабов – длин, концентраций, энергий, давлений и т. п. Такая точка зрения означает только одно: новое хотят найти там, где его уже раньше находили (малые размеры однажды уже привели к квантам, большие скорости – к теории относительности, высокие давления – к физике звезд, высокие температуры – к химии расплавов и т. п.). Однако нетрудно видеть, что непривычный масштаб просто помогает увидеть новое, а само новое нередко оказывается важным для самых повседневных масштабов. Так, физики со времен Ньютона задумывались, почему масса как мера ускорения точно соответствует массе как мере тяжести, но только теория относительности разработанная для большнх скоростей и масс, привела к аксиоме: масса инерционная и масса гравитационная – одна и та же физическая величина. Другими словами, аксиом не надо вводить тем, кто ищет не вполне новое, тогда как рождение жизни – пожалуй, самое новое, что случалось на Земле. Не исключено, что именно введение аксиом сродства, которых так настойчиво требует проблема абиогенеза, позволит лучше понять обычную эволюцию. Если квантовая механика оказалась необходимым языком при изучении новых масштабов длин и энергий, то при обращении к абиогенезу мы, несомненно, встречаемся с новой, по сравнению с обычной химией, мерой организованности молекул и тоже должны, по-видимому, ввести для явлений этой области новый язык. (Аналогично конструкцию государства нельзя описать в одних лишь терминах семейных к дружеских отношений, поскольку в государстве – другая мера организованности людей.) Как и в случае с атомом, новый язык должен описывать новые типы сродства. До познания атома физики знали только притяжение разноименных зарядов и, разумеется, пытались понять атом как электроны, вертящиеся вокруг протонов ("планетарная модель атома"). Кое-что на этом языке удавалось описать, но мучения физиков прекратились только тогда, когда выяснилось, что сродство протона и электрона надо описывать на специально для этого придуманном языке – языке квантовых уравнений. Точно так же сродство макромолекул, породивших первую генетическую систему, представляется бесперспективным описывать на языке обычной химии; вместо этого науке предстоит создать (и осознать в качестве естественного) язык сродства элементов больших систем. Вряд ли этот язык будет сколько-то общим для совокупности молекул в клетке и для совокупности организмов, но потребность в таком языке есть в обоих случаях: равно наивно считать как то, что первые белки случайно оказались полезны для первых нуклеиновых кислот, так и то, что самец случайно оказался полезен для самки. 4. Как бы то ни было, шестьдесят лет назад, когда Вернадский размышлял о происхождении жизни, представление о земной жизни как о некотором едином целом, где сродство тесно сцепляет части, было чуждо науке. Вспоминая непонятого Спенсера, Вернадский писал: "Изучая организмы – живую материю, – оставляют без внимания, как не важное для ее понимания явление, изменения, совершаемые ими в окружающей их внешней среде". Именно это – изменение организмами их среды – Вернадский положил в основу своих размышлений о начале жизни и пришел к парадоксальному выводу: земная жизнь всегда была в геохимическом отношении такой же, какой мы ее видим сейчас (биосфера все время имела приблизительно одну и ту же массу 1020г, а каждый химический элемент совершал в ней тот же тип круговорота, что и сейчас). Это обстоятельство он назвал "геологической вечностью жизни". Тем самым Вернадский ввел в науку три фундаментальных тезиса; во-первых, абиогенез нельзя рассматривать ни как стадию химической эволюции, ни как стадию биологической (ведь обе эти эволюции в отличие от абиогенеза реально наблюдаются в геологии); во-вторых, жизнь "могла начаться только в условиях, чем-то радикально отличных от нынешних (к этому выводу Вернадского привел тот факт, что не только не удается наблюдать акт рождения жизни из неживого, но никто даже не может указать, каких условий для этого недостает); а в-третьих, жизнь, приняв свою современную геохимическую форму, вообще не эволюционирует в течение известной нам истории – в том смысле, что круговорот веществ в природе не изменяется при смене конкретных видов организмов. Казалось бы, что остается делать науке о происхождении жизни после таких пессимистических выводов? Однако оказывается, что именно после них здесь начинается интересная работа. Известный микробиолог Г. А. Заварзин считает, что простейшее разнообразие организмов, которое могло бы выполнять основные геохимические функции жизни (поддерживать баланс газов в воде и воздухе, отлагать известные типы осадков и т. д.) в принципе могло бы состоять из реально известных бактерий. Выясняется, что развитие геологии докембрия вполне подтверждает старые идеи Вернадского о том, что даже в древнейшие времена, когда еще не было никаких организмов, способных давать ископаемые остатки, жизнь уже была геохимически такой же, как и в наши дни. Все то, чем для геохимика обитаемая планета отличается от необитаемой, сделали уже бактерии. Если организмы размножаются быстрее, чем эволюционируют, то не имеет смысла фантазировать о первых организмах как о нахлебниках, исчерпывавших какой-то первичный бульон, а следует искать возможный путь рождения жизни в форме замкнутых круговоротов вещества, сменявших друг друга. Как же могли выглядеть эти круговороты, от звеньев которых не осталось ничего, кроме тех геохимических свидетельств, которые одинаковы для всех времен? Путеводной нитью здесь оказывается сама идея замкнутости. Так, Заварзин считает вполне правдоподобной гипотезу, которая видит колыбель жизни в вулканах, извергающих, между прочим, много органики. Поток газов из вулкана играет роль "первичного бульона", не так ли? Но Заварзин пытается понять вовлечение этой органики в круговорот преджизни, что было возможно, как он доказывает, только в окисляющей среде, а это сразу отсекает все гипотезы, основанные на отсутствии кислорода в первичной атмосфере. Следовательно, вопрос об истинности вулканической гипотезы абиогенеза (как, впрочем, и вопрос о других гипотезах) требует поиска доказательств наличия или отсутствия кислорода в тогдашней атмосфере, и Заварзин указывает одно из доказательств наличия О2 – микоплазму Metallogenium. Микоплазмы – самые мелкие и примитивно устроенные из бактерий – давно привлекают ученых в качестве возможных предков жизни, и было приятной неожиданностью сообщение о том, что остатки колоний одной из современных микоплазм, Metallogenium, найдены в самых древних породах (возраст 2-2,8 миллиарда лет). Уже самый факт, что один и тот же род микробов оказался способным жить в течение всей эволюции жизни, удивителен и позволяет усомниться в том, чтo эволюция всегда шла только путем вытеснения одних форм другими. Однако самое важное для нас здесь то, что этот организм может жить только в окислительной атмосфере: он существует, окисляя карбонат марганца до двуокиси марганца. Итак, для первой жизни нужен окислитель (вернее всего – молекулярный кислород), а следовательно, нужен постоянный механизм, восстанавливающий запас этого окислителя. Сперва этим механизмом служило расщепление молекул воды ультрафиолетовыми лучами Солнца, затем эту функцию взял на себя фотосинтез. Откуда он впервые взялся? Здесь Заварзин обращает внимание на то, что фотосинтез был полезен его обладателю прежде всего способностью направлять на "мирные цели" ту энергию света, которая иначе попросту сожгла бы организм. Поэтому не следует думать, что фотосинтез сразу возник как подмена "первичному бульону"; сперва могла возникнуть какая-то реакция, направляющая энергию света на расщепление воды (или на любой другой процесс, идущий против термодинамического равновесия), а уже затем стал использоваться накапливающийся при этом высокоэнергетичный продукт. Этот пример демонстрирует одну из логических возможностей возникновения сродства: оно возникает как утилизация процессов и продуктов, возникших по совсем посторонним причинам. Если учесть, что такие функции растений и животных, как фотосинтез и дыхание, прекрасно реализуются и бактериями, а также то, что многие геохимические функции живого до сих пор осуществляются только бактериями (так, только они способны усваивать азот из воздуха), то становится ясно: жизнь действительно могла начаться с бактерий. Разумеется, это было возможно при условии, что бактерии были сразу достаточно разнообразны. Мы, к сожалению, не имеем здесь возможности проследить весь ход мыслей Заварзина*, однако отметим, что они направлены именно на разрешение проблемы становления биологических форм сродства (сам он не пользуется этим термином). __________________ * См. Г. А. Заварзин. "Известия АН СССР", серия "Биология". 1976, № 1; "Журнал обшей бнологии". 1979, № 1. Итак, "начало того конца" можно понимать как возникновение биологических форм сродства, но встает вопрос: в самом ли деле мы поняли что-то новое или, как часто бывает, просто придумали для непонятного новый термин? Ведь и раньше многие усматривали в феномене жизни нечто специфическое и давали этому специфическому фактору красивое название (в частности, Аристотель ввел понятие "энтелехия", то есть жизненная сила), но название оказывалось красивым только для приверженцев данной теории, оппоненты же видели в этом только уход от решения проблемы. Не является ли сродство сто первым именем непонятного? Честно говоря, ответить на этот вопрос сторонники социабилизма (так именует себя то направление мысли, которое изучает сродство частей к целому) не могут. Не будем требовать от них слишком многого – ведь социабилизм как наука делает свои первые шаги. Хотя отдельные высказывания о роли сродства рассыпаны по всей истории научной мысли, науки здесь до недавнего времени было мало. Более всех здесь, пожалуй, потрудился знаменитый революционер и ученый П. А. Кропоткин, написавший книгу "Взаимная помощь как фактор эволюции", но и он не пошел дальше простого противопоставления сознательной взаимопомощи (у животных) и конкуренции. Однако в последние годы положение меняется, и понемногу выясняется, что сродство – не просто новый термин, но скорее общее имя для группы явлений природы, в которых прежде не видели ничего общего. В частности, перипетии современной физики с ее новым пониманием сродства крайне полезны для биологии. Квантовая механика до сих пор была бы уделом кучки чудаков, если бы не ее математический аппарат, позволяющий точно предсказывать, что в атоме возможно, а что – нет. Одной из основных и, пожалуй, одной из самых изящных идей этого аппарата является старая идея симметрии. Понятие "симметрия" (что по-гречески означает "соразмерность") очень близко понятию сродства, и неудивительно, что сродство элементарных частиц оказалось удобно выражать математическим аппаратом симметрии – теорией групп (которая до этого применялась, например, для описания симметрии кристаллов". Симметрия – это сохранение каких-либо свойств предмета при его преобразовании (так, мы называем квадрат симметричным потому, что при повороте на 90° и на 180° он не меняет своего вида), и естествен вопрос: а нельзя ли считать законы сохранения, лежащие в основе физики, частными случаями симметрии? Оказалось, что такой взгляд очень удобен: в частности, такие разные для классической физики законы, как сохранение массы и сохранение энергии, оказались как бы двумя поворотами одного феномена – сохранения вещества-энергии в теории относительности. Предложен даже новый принцип – закон сохранения симметрии, который означает вот что: при переходе вещества из одной формы в другую законы, свойственные прежней форме, не исчезают, но преобразуются в новые законы, законы новой формы. Например, если правильной формы балка изогнется под действием силы тяжести, то ее симметрия не исчезнет, а просто превратится в более сложную. Замечательно, что Вернадский, понимавший симметрию очень широко, искал ответы на загадки жизни именно здесь. Он, например, видел симметрию в однотипном поведении членов коллектива и в любом повторяющемся процессе, а потому считал симметричным явление смены поколений (особь порождает такую же, но в другой точке времени). При таком понимании симметрии многие феномены биологического сродства предстают как симметричные. Так, феномен заботы о потомстве многих поражает своей однобокостью ("Мы же вас вырастили, а вы, неблагодарные!"), но в действительности он вполне симметричен – во времени: молодые отражают полученную заботу не назад, на родителей, а вперед, на своих детей. (Что же касается заботы о старших, то она является феноменом другого симметричного ряда – коллективного поведения.) Уже на этом примере видно, что специфика биологической симметрии – не столько в правильной форме цветков, сколько в регулярности процессов. Все учение Вернадского проникнуто идеей сохранения количества жизни, поэтому он не видел возможности научного объяснения ее рождения (то есть момента, когда сохранение было нарушено) и писал даже, что жизнь, возможно, является отдельной сущностью, стоящей наряду с веществом и энергией. Не будем спорить с покойным мыслителем, но отметим, что сейчас нам естественнее рассматривать жизнь как еще один "поворот" вещества-энергии, а не как особую сущность. Эта мысль фактически близка мыслям Вернадского. Действительно, если с рождением жизни появился новый тип симметрии, то его сейчас естественно связать с исчезновением какой-то прежней симметрии, и мы видим у Вернадского указание на это: "Термодинамическое поле живого организма обладает резко выраженной диссимметрией. Ничего аналогичного мы не знаем среди других природных объектов". (Он имел в виду, прежде всего, различие правых и левых молекул в построении живого.) Какие новые типы симметрии приобретает материя, становясь живой? При такой форме вопроса ответ достаточно ясен: смену поколений н биологическое сродство. За эту новую фундаментальную симметрию (позволяющую биосфере сохранять свой размер и состав вот уже три миллиарда лет) жизнь расплатилась тем, что не может образовывать таких правильных структур, как крупные кристаллы, и вообще немного скошена влево. Вот пример того, как специфически биологическая симметрия рождается при уменьшении обычной, "неживой" симметрии. Известно, что всякий белок является цепью аминокислот, последовательность которых наследственно закодирована в цепи РНК, где каждой аминокислоте соответствует тройка нуклеотидов (кодон). Различных кодонов существует 64, однако ими кодируется всего только 20 различных аминокислот (хотя вообще аминокислот в природе известно гораздо больше). Почему одна аминокислота кодируется единственным способом, а другая – шестью способами? Недавно А. Г. Волохонский (см. "Цитология и генетика", 1972, № 6) заметил, что соответствие 64 кодонов двадцати аминокислотам белков образует изящную симметрию, причем такую, какая невозможна даже в кристаллах, – икосаэдрическую (икосаэдром называется правильный двадцатигранник). Почему? По-видимому, потому, что всякое симметричное состояние устойчивее несимметричного. Зачем? Этот вопрос здесь, по-видимому, бессмыслен (как бессмысленно спрашивать, зачем нейтрон распадается на протон и электрон). Следовательно, РНК, не проявляющая в клетке геометрической симметрии (нить РНК – неправильный завиток), служит для порождения высокосимметричного соответствия, но не геометрического, а, так сказать, логического. Существенно, что сама РНК (как и составляющие ее "кирпичики") способна образовывать в лабораторных условиях кристаллы, но такая симметричная РНК ни на что биологичное не пригодна. Другими словами, сродство биологическое развивается здесь в ущерб обычному неорганическому сродству. Как видим, загадочное рождение аппарата наследственности (см. выше. раздел 3) сопровождалось переходом одной симметрии в другую, как требует закон сохранения симметрии. Разумеется, от таких отдельных примеров до общей теории еще очень далеко, но здесь виден путь для поисков, а не просто апелляция к счастливой случайности. Словом, хотя до понимания тайны происхождения жизни нам еще очень далеко (гораздо дальше, чем это казалось в 1924 году), однако мы уже уверенно различаем некоторые путеводные вехи, которыми следует руководствоваться в будущем. Во-первых, очевидно, что Земля могла располагать всеми необходимыми для появления жизни веществами; во-вторых, жизнь создавалась не просто путем выедания запаса этих веществ, а путем подстройки своих процессов к геохимическим круговоротам, путем, так сказать, изобретения биологических аналогов существовавших дотоле химических реакций. Образно выражаясь, из работ опаринской школы выросла химия происхождения жизни, из работ Вернадского – экология этого процесса, а теперь, с привлечением понятия сродства, намечается общебиологическое понимание проблемы. |
| Дата публикации: 22 мая 2003 года | В начало |
| Источник информации:
«Знание – сила», № 1, 1980.
Электронная версия. |
© "От молекул до планет", 2006 (2002)... |